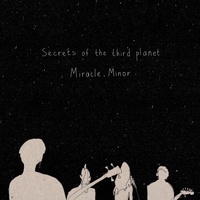Утром 10 сентября в Коктебеле, пожалуй, ещё прохладней, чем вечером предыдущего дня. За ночь поднялся ветер, море взбушевалось и сменило лазурь на свинец; при ином порыве ветра из затянувших небо туч кажется, вот-вот начнет срываться снег. По ощущениям – градусов 10-12 тепла, не больше. Мы выгружаемся около сцены Nu Jazz, выходим на саундчек… и понимаем, что белые концертные костюмы из тонкой ткани, в которых парни планировали играть – не вариант.
 А ведь
надо учитывать, что наш гитарист Антон Ильенков, помимо прочего, - ещё и
дизайнер одежды, так что отношение к сценическому облику в
группе Free-Spoken Band наисерьёзнейшее. Даже в самом крохотном клубе FSB
выходит к зрителю при параде, а то и меняет костюмы в трёхминутном антракте (во
время него звучит специально подготовленный плейбэк, кода которого становится
вступлением следующей композиции – все серьёзно, в общем). Можете представить,
как продувалась всеми ветрами сцена, если кульминационный концерт своего
гастрольного тура парни решили сыграть в футболках и джинсах. Мне-то что, – мне
железные струны одеревеневшими пальцами нажимать не нужно, могу и в маечке попрыгать.
А ведь
надо учитывать, что наш гитарист Антон Ильенков, помимо прочего, - ещё и
дизайнер одежды, так что отношение к сценическому облику в
группе Free-Spoken Band наисерьёзнейшее. Даже в самом крохотном клубе FSB
выходит к зрителю при параде, а то и меняет костюмы в трёхминутном антракте (во
время него звучит специально подготовленный плейбэк, кода которого становится
вступлением следующей композиции – все серьёзно, в общем). Можете представить,
как продувалась всеми ветрами сцена, если кульминационный концерт своего
гастрольного тура парни решили сыграть в футболках и джинсах. Мне-то что, – мне
железные струны одеревеневшими пальцами нажимать не нужно, могу и в маечке попрыгать.
 А прыгать – не столько от холода, сколько от внезапно нахлынувшего кайфа, -
хотелось больше, чем когда бы то ни было. У артистов Nu Jazz Stage есть все
условия для эндорфиновой бури: прямо перед тобой – куча пёстрого дружелюбного
народу, справа, можно сказать,
под ногами, – штормовое
море чуть поодаль – живописнейшие горы…, И, как ни странно, голубое небо: с
началом нашего выступления, – о чудо! – облака, пугавшие серьёзными осадками
целые сутки, рассеялись прямо на глазах! К заключительной композиции, битбоксу в
исполнении нашего барабанщика (который закончился тем, что экспрессивный солист
упал «в изнеможении», и коллеги по группе добили его ногами) над нудистским
пляжем воссияло солнце – и не скрывалось до самого конца фестиваля.
А прыгать – не столько от холода, сколько от внезапно нахлынувшего кайфа, -
хотелось больше, чем когда бы то ни было. У артистов Nu Jazz Stage есть все
условия для эндорфиновой бури: прямо перед тобой – куча пёстрого дружелюбного
народу, справа, можно сказать,
под ногами, – штормовое
море чуть поодаль – живописнейшие горы…, И, как ни странно, голубое небо: с
началом нашего выступления, – о чудо! – облака, пугавшие серьёзными осадками
целые сутки, рассеялись прямо на глазах! К заключительной композиции, битбоксу в
исполнении нашего барабанщика (который закончился тем, что экспрессивный солист
упал «в изнеможении», и коллеги по группе добили его ногами) над нудистским
пляжем воссияло солнце – и не скрывалось до самого конца фестиваля.
 Собственно, наше выступление открыло серию фестивальных концертов на главной
сцене. Пока мы обнимались в гримёрке по поводу успешно завершённого тура и
причитали «надо было выходить в костюмах!», на Nu Jazz началась дневная
дискотека от «Европы +». Никакого джаза, зато
весело. Тем, кто не особо хотел танцевать под актуальные хиты, на площадке было
чем заняться: бесплатно сходить на массаж от инфопартнёра фестиваля, журнала
Men’s Health (жаль, что так и не довелось опробовать: лень было занимать
очередь), поджемовать на микро-сцене для любителей в
специально отведенной палатке (к заключительному дню фестиваля аматоры так
разошлись, что звук от их музицирования вклинивался в то, что звучало с основной
сцены), порисовать красками на стене, сфотографироваться с арт-объектами…
Позагорать топлесс и искупаться в штормящем море, наконец. Тут же, под сценой.
Собственно, наше выступление открыло серию фестивальных концертов на главной
сцене. Пока мы обнимались в гримёрке по поводу успешно завершённого тура и
причитали «надо было выходить в костюмах!», на Nu Jazz началась дневная
дискотека от «Европы +». Никакого джаза, зато
весело. Тем, кто не особо хотел танцевать под актуальные хиты, на площадке было
чем заняться: бесплатно сходить на массаж от инфопартнёра фестиваля, журнала
Men’s Health (жаль, что так и не довелось опробовать: лень было занимать
очередь), поджемовать на микро-сцене для любителей в
специально отведенной палатке (к заключительному дню фестиваля аматоры так
разошлись, что звук от их музицирования вклинивался в то, что звучало с основной
сцены), порисовать красками на стене, сфотографироваться с арт-объектами…
Позагорать топлесс и искупаться в штормящем море, наконец. Тут же, под сценой.
Мы же с передохнувшими и подкрепившимися «кукурузой сахарной, пахлавой медовой»
парнями поспешили – правильно, на Волошинскую сцену. Именно там происходили
самые важные музыкальные открытия Jazz Koktebel, перемежающиеся, впрочем, и
неоднозначными проектами.
Среди последних – выступление поп-певца El Кравчука, исполняющего репертуар Александра Вертинского. Кравчук некогда был звездой украинской эстрады. Ёлки-палки, да я ещё в школу ходила, когда писаный красавец и эпатажник El бросал томные взгляды из каждого, так сказать, утюга. С той поры воды
утекло достаточно; Андрей (это его настоящее имя) достиг зрелости, gloria mundi
давно transit, на красивом лице появляются следы бурной
творческой молодости, а 16-тилетние прелестницы нынче любят группу Quest
Pistols и Tokio Hotel – в общем, совершенно неудивительно, что El
Кравчук принимает решение сменить аудиторию и обращается к эстетике декаданса.
Почему бы, собственно, и нет, вполне похвальная инициатива.
Правда, по прослушивании программы оказывается, что Андрей не даёт собственной трактовки романсов, а пытается быть
максимально близким к уже существующему образу
«субтильного Пьеро». Получается не сказать, что плохо, но верится в
происходящее с трудом, особенно когда артист в перерывах между песнями начала
прошлого века выдаёт восклицания вида «классная у меня публика!»,
фатально выпадая из образа. Передо мной не муж, но мальчик, и представление
больше походит на мизансцену в исполнении студента, чем на
откровение Артиста. Впрочем, в финале программы я наблюдаю за солистом со вполне
искренней благожелательностью: не у каждого хватит смелости честно признаться в
середине песни: «а теперь мне придётся сделать
небольшую паузу, потому что я забыл текст». Да и осушение бокала с
последующим разбиванием его о сцену, что и говорить, - беспроигрышный трюк. А за
то, как играл скрипач Денис Боев, и вовсе многое можно простить.
Трио украинского гитариста Виталия Ткачука играет в программе следующим. В коллектив, помимо лидера, входит контрабасист Виталий Фесенко (игравший на стике), сербский барабанщик Душан Новаков и уже знакомый читателю по первой части репортажа саксофонист Андрей Прозоров – который для меня, не знакомой с творчеством Виталиев, выполняет функцию марки качества.
Признаться, я была уверена, что мне известны все достойные международного внимания украинские джазовые музыканты. Оказалось - не все. Ткачук – тонкий и умный гитарист, работающий в парадигме лейбла ЕСМ и европейской джазовой школы как таковой. Всё хорошее, что можно взять от Фризелла (Bill Frisell), Аберкромби (John Abercrombie), Рипдаля (Terje Rypdal) взято, пережито, применено к себе и подано – со вкусом и с любовью. Ткачук, Фесенко, и (ох!) Прозоров играют музыку европейского класса; играют эмоционально, но вместе с тем взвешенно и с достоинством, а Новаков добавляет во всё происходящее необходимое количество «балканщины».
После концерта мы с Виталием Ткачуком пробрались в одну из выставочных комнат Дома-музея Волошина, где Виталий дал небольшое импровизированное видео-интервью.
Сетом знаменитого одесского пианиста Юрия Кузнецова пришлось пожертвовать;
впрочем, на видео слышно, в каком ключе проходило выступление маэстро. Я так
называю Кузнецова не зря: подавляющее большинство талантливых молодых одесских
музыкантов (включая и Неселовского, и Прозорова), прошло через его руки: это
известный педагог, живая легенда одесского джаза, весьма заметная фигура в
области новой импровизационной музыки и арт-директор ещё одного украинского
фестиваля, - «Джаз Карнавал».
 Выбирая между вечерними концертами, которые начинались на главной и малой сцене
почти одновременно, мы, недолго думая, выбрали последнюю. В конце-концов, Faerd
Trio, что выступало на Nu Jazz, мы, можно сказать, на 2/3 слышали
накануне: в трио входят уже знакомые нам Эскиль Ромме и Йенс Ульфсанд,
дополненные датским скрипачом Петером Урбрандом и датской же вокалисткой
Жюли
Йетланд.
О, как я благодарю себя за то, что не пошла на Nu Jazz и появилась на малой
сцене вовремя. А всё потому, что выступление австрийского гитариста Карла Риттера
стало для меня главным музыкальным событием фестиваля.
Выбирая между вечерними концертами, которые начинались на главной и малой сцене
почти одновременно, мы, недолго думая, выбрали последнюю. В конце-концов, Faerd
Trio, что выступало на Nu Jazz, мы, можно сказать, на 2/3 слышали
накануне: в трио входят уже знакомые нам Эскиль Ромме и Йенс Ульфсанд,
дополненные датским скрипачом Петером Урбрандом и датской же вокалисткой
Жюли
Йетланд.
О, как я благодарю себя за то, что не пошла на Nu Jazz и появилась на малой
сцене вовремя. А всё потому, что выступление австрийского гитариста Карла Риттера
стало для меня главным музыкальным событием фестиваля.
Концерт едва начался, когда мы появились на Волошинке. Кто-то ещё устраивался на
забрэндированных карематах, кто-то переставлял свой стул поудобнее. На сцене,
тем временем, происходило что-то особенное и для формата фестиваля Jazz Koktebel
малохарактерное: сидящий на корточках человек согнулся над маленьким гитарным
комбиком и находился в таком положении без движения. Из порталов исходит негромкий, почти неразличимый гул фидбэка, потому что человек положил
на комбик свою гитару, а рядом ещё и поставил микрофон. Гул продолжается минуту,
две, пять, десять, Карл Риттер (а это именно он) всё так же неподвижен. На лицах
зрителей постепенно появляется недоумение, а на лицах присутствующих музыкантов
– любопытство, беспокойство или заинтересованная улыбка (в зависимости от того,
какую стилистику исповедуют сами музыканты).
Я же отдаюсь образам, которые будит музыка (а это всё-таки она, товарищи:
«музыкой может быть что угодно, однако ничто не станет музыкой, пока кто-то
этого не пожелает, а слушатели не решат воспринимать это как музыку» (с) Frank
Zappa), думаю о мироздании, о (не сочтите за позёрство), космическом
микроволновом фоновом излучении, о том, как многообразная и сложная жизнь
создаётся из ничего…
А гул понемногу начинает трансформироваться. Сначала становится чуть громче,
затем меняет частоту, пульсирует, расслаивается, напоминает горловое пение,
рассыпается обертонами. Риттер увлечённо крутит контроллеры, не глядя в зал, где
народ, поначалу было заворожённый, уже не стесняясь, вслух обсуждает
происходящее. Кто-то смеётся, кто-то уходит; говорят, и билеты пытались сдавать.
Риттер абсолютно, совершенно не обращает внимания на происходящее, он крайне
сосредоточен и полностью погружен в звук. Бьёт по гитаре, перебирает струны,
встаёт (возможно, затекли ноги), приподнимает инструмент (из порталов раздаётся
уж совсем резкий звук – эй, это уже больно!), бьёт по гитаре, приподняв её, с
усилием водит рукой по деке и струнам. Вереница на выход становится несколько более
массовой. В какой-то момент от нойза начинает становиться худо; я затыкаю уши
берушами. Риттер раскачивает гитару на весу, подносит её всем корпусом к комбику,
возит её по нему струнами. Вой и скрип достигают апогея…
Надо отдать должное, публика, которая совершенно не была готова к чему-то подобному, в
подавляющем большинстве осталась сидеть на местах: покинувших Волошинскую сцену -
максимум человек 20-25. И те, кто остались, были вознаграждены: «злобный
зубовный скрежет», созданный Риттером, становится самым настоящим катарсисом,
очищением через боль и страдание. Хаос постепенно приобретает форму, сквозь
вопли истерзаной гитары проступают осознанные фразы. На сцену выходят барабанщик (Душан Новаков) и
саксофонист (Андрей Прозоров), и звучит вполне конвенциональная, виртуозно,
драйвово сыгранная и, чёрт побери, красивая музыка. Риттер играет
проникновеннейший блюз и феерический фьюжн с той же увлечённостью, с тем же
выражением сосредоточенности, что и случайные сочетания звуков, вызванных
«заводящейся» гитарой. Нойз Риттера – не просто заигрывание со стилем, не блажь,
не решение пойти от противного в духе «если все играют так, то я сыграю этак».
Это жизненная необходимость, продукт личной философии, результат (наверняка)
долгих размышлений. Пусть Риттер – не первый, кто додумался использовать фидбэк
в музыке: какая разница, кто изобрёл буквы, когда ты захвачен талантливой
повестью.
Первый сет послужил ситом, стал «проверкой на вшивость»: зрителей провели за
руку от нуля к плюс бесконечности, от минимализма к экспрессионизму, от
неприятия к восторгу. Всё пришло к тому, с чего начиналось; Риттер, Прозоров и
Новаков после исполнения невероятно прекрасной баллады на бис… развинчивают свои
инструменты. Снятые струны дрожат в руке гитариста, зал взрывается овациями,
концерт окончен.
 Тем временем на Nu Jazz завершает своё выступление фрик-кабаре Серебряная
Свадьба. Не могу сказать, что эта группа представляет собой нечто выдающееся
в музыкальном отношении, но наблюдать за сменой фантазийных костюмов, за ужимками,
прыжками, за появляющимися на сцене игрушечными червяками, куклами, увеличительными
стёклами и сачками, а также внимать разухабистым текстам бывает довольно
занятно.
Тем временем на Nu Jazz завершает своё выступление фрик-кабаре Серебряная
Свадьба. Не могу сказать, что эта группа представляет собой нечто выдающееся
в музыкальном отношении, но наблюдать за сменой фантазийных костюмов, за ужимками,
прыжками, за появляющимися на сцене игрушечными червяками, куклами, увеличительными
стёклами и сачками, а также внимать разухабистым текстам бывает довольно
занятно.
Серебряную Свадьбу на сцене сменяет АукцЫон, - организаторы говорят, что в связи
с выступлением легенд русского панк-рока впервые за всю историю фестиваля были
раскуплены подчистую все билеты на главную сцену. Я, признаться, по АукцЫону
совсем-совсем не специалист. Больше того, - 10 сентября вообще впервые в жизни
сознательно села и послушала то, что играет Леонид Фёдоров с коллегами. Мы с Free-Spoken Band и украинским басистом (и весьма талантливым композитором)
Ильёй Алабужевым наблюдали за выступлением издали, расположившись на террасе
близлежащего отеля и кутаясь с головой в одеяла. Илья как страстный фанат
АукцЫона рассказывал нам, ламерам, что к чему, транслировал тонущие в шуме толпы
и моря тексты и вещал об истории группы, а мы задавали наводящие вопросы, полные
скепсиса и предубеждений. Постепенно горячая дискуссия о творчестве группы
свелась к тому, что басист Алабужев и наш барабанщик Игнат подрались (судя по
отсутствию увечий – в шутку), а мы поспешили признать, что «Зимы не будет» -
очень глубокая вещь. На странице фестиваля в соцсетях, к слову, битва между
поклонниками АукцЫона и теми, кто приехал в Коктебель за джазом и фьюжном, идёт
до сих пор.
 После АукцЫона на Nu Jazz Stage поднялись звёзды украинского «этно-хаоса» –
ДахаБраха. Этот коллектив в последнее время особенно активно гастролирует в
России, и не в последнюю очередь благодаря усилиям известного промоутера Александра Чепарухина. Украинцы с
большим успехом выступали на «Сотворении
Мира» и «Саянском Кольце»; у себя дома они постоянные участники престижного
фестиваля ГогольFEST. Трансовые ударные и надрывный аутентичный вокал –
действительно очень удачное сочетание, но… что-то мне всё же в очередной раз
помешало присоединиться к числу поклонников группы. Может быть, мне не хватило
искушённости в аранжировках, а может, просто застила глаза и уши чересчур
горячая любовь к группе «Ва-Та-Га», рядом с которой никого не хочется
ставить.
После АукцЫона на Nu Jazz Stage поднялись звёзды украинского «этно-хаоса» –
ДахаБраха. Этот коллектив в последнее время особенно активно гастролирует в
России, и не в последнюю очередь благодаря усилиям известного промоутера Александра Чепарухина. Украинцы с
большим успехом выступали на «Сотворении
Мира» и «Саянском Кольце»; у себя дома они постоянные участники престижного
фестиваля ГогольFEST. Трансовые ударные и надрывный аутентичный вокал –
действительно очень удачное сочетание, но… что-то мне всё же в очередной раз
помешало присоединиться к числу поклонников группы. Может быть, мне не хватило
искушённости в аранжировках, а может, просто застила глаза и уши чересчур
горячая любовь к группе «Ва-Та-Га», рядом с которой никого не хочется
ставить.
На ночной концерт белорусских рэггийщиков Аддис-Абеба (вокалист которых, судя по
видеороликам в сети, совершенно не стеснялся раскуривать на сцене, э-э-э, нечто
и петь с красноречивой характерной хрипотцой в голосе) нас, признаться, уже не хватило, и мы
пошли спать.
Выступление Пола Роджерза (не вокалиста), специальный проект фестиваля New Generation, интервью философа и саксофониста Андрея Прозорова, беседа с арт-директором Jazz Koktebel Андреем Слабинским - в окончании репортажа. Скоро!
ФЕСТИВАЛЬ - свежие публикации:
-
 Фестиваль - Парк аттракционов, 26.04.2025Marilyn Manson, Alan Walker и Röyksopp - хедлайнеры Park Live »»
Фестиваль - Парк аттракционов, 26.04.2025Marilyn Manson, Alan Walker и Röyksopp - хедлайнеры Park Live »» -
 Фестиваль - FIJM 2025: Thundercat, Джефф Голдблюм и "Illmatic", 16.04.2025Объявлен лайнап 45-го международного джазового фестиваля в Монреале »»
Фестиваль - FIJM 2025: Thundercat, Джефф Голдблюм и "Illmatic", 16.04.2025Объявлен лайнап 45-го международного джазового фестиваля в Монреале »» -
 Анализ - Хедлайнеры-2025: Оливия, Сабрина, Charli XCX и Nine Inch Nails, 26.03.2025От поп-див до бойфренда Граймс: кого и за что берут в хедлайнеры главных фестивалей этого лета »»
Анализ - Хедлайнеры-2025: Оливия, Сабрина, Charli XCX и Nine Inch Nails, 26.03.2025От поп-див до бойфренда Граймс: кого и за что берут в хедлайнеры главных фестивалей этого лета »»
Свежие альбомы
Хроника8 мая
1975 – Родился испанский певец Энрике Иглесиас, самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире на данный момент »»
Родились
Gary GLITTER (1940)
John FRED (1941)
Paul SAMWELL-SMITH (1943)
Keith JARRETT (1945)
Chris FRANTZ (1951)
Philip BAILEY (1951)
Billy BURNETTE (1953)
Enrique IGLESIAS (1975)