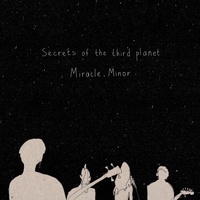В Коктебель из Москвы мы добирались 3 недели. Мы – это я и группа Free-Spoken Band, трио (без преувеличения) супер-музыкантов из Екатеринбурга: Игнат Кравцов, Антон Ильенков и Саша Булатов. Нет, мы не шли в Коктебель пешком, просто от неги на черноморском побережье нас отделяла дюжина концертов в дюжине украинских городов, среди которых — Винница, Ровно, Луцк, Львов, Кривой Рог, Краматорск, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Киев и Николаев. Выступление на фестивале Jazz Koktebel было последней точкой в нашем маршруте.
 Об этих гастролях можно написать отдельную небольшую книгу в мягкой обложке. При
том, что в поездке никто толком не выпивал и тем более не курил и не нюхал – а
значит, никого не избили, никто не пропал, никто не спал в коробке из-под
телевизора и не выпал из окна. Просто в гастролях мы ездили общественным
транспортом с примерно ста килограммами перевеса по багажу. Антон (гитарист) и
Саша (басист) притащили из Екатеринбурга пять гитар (из них две – акустические в
жёстких кофрах), чемодан со шнурами высотой с десятилетнего мальчика и
увесистый, обитый металлом пластиковый короб с процессорами и прочей электронной
начинкой. Это не считая «железа» и малого барабана Игната, а также сумок с
личными вещей на месяц отсутствия (до сих пор удивляюсь, что, будучи нормальной
барышней, обошлась одним небольшим чемоданчиком) и этак килограммов 15-ти
концертных костюмов.
Об этих гастролях можно написать отдельную небольшую книгу в мягкой обложке. При
том, что в поездке никто толком не выпивал и тем более не курил и не нюхал – а
значит, никого не избили, никто не пропал, никто не спал в коробке из-под
телевизора и не выпал из окна. Просто в гастролях мы ездили общественным
транспортом с примерно ста килограммами перевеса по багажу. Антон (гитарист) и
Саша (басист) притащили из Екатеринбурга пять гитар (из них две – акустические в
жёстких кофрах), чемодан со шнурами высотой с десятилетнего мальчика и
увесистый, обитый металлом пластиковый короб с процессорами и прочей электронной
начинкой. Это не считая «железа» и малого барабана Игната, а также сумок с
личными вещей на месяц отсутствия (до сих пор удивляюсь, что, будучи нормальной
барышней, обошлась одним небольшим чемоданчиком) и этак килограммов 15-ти
концертных костюмов.
Однако основную пикантность поездке придавало не только и не столько препирание
с таможенниками, беседы о природе вещей с водителями рейсовых автобусов и
«вокзальный фитнес» как таковой, а увлекательное общение с иными местными
промоутерами. Казалось бы, что делать в организации концертов людям с атрофией
ответственности и/или пунктуальности? Казалось бы —
зачем приглашать к сотрудничеству звукорежиссёра, который через 20 минут после
объявленного времени начала концерта всё ещё не способен начать саундчек,
поскольку не знает, как включить порталы и предлагает быстро найти ему паяльник
и пива? Казалось бы, почему не вломить в лицо организатору, уклоняющемуся от
выполнения ранее оговорённых условий? Многое, безусловно, излечивается
подписанием грамотно оформленного контракта. Но и он не является панацеей на
постсоветском пространстве, дорогие товарищи.
Впрочем, неадекват в виртуозном исполнении принимающей стороны в этой поездке
присутствовал в достаточно гомеопатических дозах; в целом всё у нас получилось
довольно здорово. Если вкратце, то поток воспоминаний получается приблизительно
таким: показательный разрыв пластиков на барабанах в конце шоу, ночные покатушки
в кабриолете под AC/DC, безразмерная автограф-сессия с дарением портретов;
сцена в стенах средневекового замка, восемь летающих неопознанных светящихся
точек в ночном небе и кучка обалдевших зевак; копеечные арбузы, домашние пирожки
с яблоками в дорогу, 10 часов в рейсовом автобусе, неожиданно удачный звук в
крохотном зале с минимальным аппаратом, клуб с кожаными тюфяками вместо стульев;
добрый киевский таксист (что уже само по себе оксюморон) дядя Толя; «а не
махнуть ли нам в Коктебель из Николаева на яхте?», 4-часовый мастер-класс,
чай с корицей и клевером, какие-то уж совсем бешеные овации и тотальное
братание.
 И вот, наконец, ранним утром 9 сентября мы, сонные и уставшие от бесконечных
переездов, выходим на станции Айвазовская, что возле Феодосии. Нас встречает
колоритный закопченный водитель минивэна по имени Эдем; через 40 минут мы уже
разгружаемся в Коктебеле. Мои уральские ребята мечтали об этом моменте, пожалуй,
с самого начала гастролей, поэтому, несмотря на 14 градусов тепла, сизые тучи,
ветер и накрапывающий дождик, облачаются в белые штаны, цветные майки и
вьетнамки (к вечеру приходится натягивать на себя всё шерстяное, что есть в
чемоданах). Прелестная блондинка Ева выдаёт нам именные бэджи со штрих-кодами;
Koktebel Jazz Festival 2010 начался.
И вот, наконец, ранним утром 9 сентября мы, сонные и уставшие от бесконечных
переездов, выходим на станции Айвазовская, что возле Феодосии. Нас встречает
колоритный закопченный водитель минивэна по имени Эдем; через 40 минут мы уже
разгружаемся в Коктебеле. Мои уральские ребята мечтали об этом моменте, пожалуй,
с самого начала гастролей, поэтому, несмотря на 14 градусов тепла, сизые тучи,
ветер и накрапывающий дождик, облачаются в белые штаны, цветные майки и
вьетнамки (к вечеру приходится натягивать на себя всё шерстяное, что есть в
чемоданах). Прелестная блондинка Ева выдаёт нам именные бэджи со штрих-кодами;
Koktebel Jazz Festival 2010 начался.
 В десятом году по сравнению с годом девятым, на первый взгляд, изменений
немного. В саду дома-музея Максимилиана Волошина снова поставили малую сцену;
главная сцена Nu Jazz снова расположена на нудистском пляже. Отличие только в
том, что на «волошинские» концерты, которые в прошлом году проходили в тестовом
бесплатном режиме, теперь можно попасть лишь по билетам. Цена вполне посильная:
75 гривен (≈300 р.) за дневной концерт и 150 гривен (≈580 р.) за вечерний,
однако многим из тех, кто в прошлый раз вкусил халявы, решение организаторов
фестиваля показалось несправедливым. Ну как же так
— раньше было бесплатно, а теперь вот платно, проклятые буржуины.
Подумаешь, гонорары нужно артистам оплатить, перелёт, визы, проживание, аренду
аппаратуры и зарплату команде. В прошлом-то году было бесплатно!..
В десятом году по сравнению с годом девятым, на первый взгляд, изменений
немного. В саду дома-музея Максимилиана Волошина снова поставили малую сцену;
главная сцена Nu Jazz снова расположена на нудистском пляже. Отличие только в
том, что на «волошинские» концерты, которые в прошлом году проходили в тестовом
бесплатном режиме, теперь можно попасть лишь по билетам. Цена вполне посильная:
75 гривен (≈300 р.) за дневной концерт и 150 гривен (≈580 р.) за вечерний,
однако многим из тех, кто в прошлый раз вкусил халявы, решение организаторов
фестиваля показалось несправедливым. Ну как же так
— раньше было бесплатно, а теперь вот платно, проклятые буржуины.
Подумаешь, гонорары нужно артистам оплатить, перелёт, визы, проживание, аренду
аппаратуры и зарплату команде. В прошлом-то году было бесплатно!..
Тем не менее, все концерты на Волошинской сцене прошли с неизменным аншлагом, да
ещё и вокруг сада, за проволочным заборчиком, располагались те, кому билетов не
досталось. Пожалуй, единственный недостаток этой камерной, живописной и
невероятно уютной сцены, где зрители сидят под листвой, укрытые от
пронизывающего ветра с моря, — в том, что на
неё проникнуть физически примерно так же трудно, как богатому попасть в Царство
Небесное. Все четыре фестивальных дня интеллигентного вида господа и холёные
дамы стояли под крохотной калиткой, сдавливаемые с боков более резвыми
любителями джаза и пограничных стилей, аки верблюды перед игольным ушком, и
вспоминали советскую троллейбусную молодость. Иной раз и визг стоял,
— так некоторым было охота взглянуть на
заезжих звёзд современной импровизационной музыки.
А глядеть было на кого, дорогие друзья. Я езжу на Jazz Koktebel (с некоторыми
перерывами) с 2004 года, мне есть с чем сравнивать. Я помню фантастическое
выступление японского Shibusashiradzu Orchestra, я знаю, что на Коктебеле
играли Стэнли Кларк (Stanley Clarke) и Арчи Шепп (Archie Shepp), я
слышала Кортни Пайна (Courtney Pine) в прошлом году. Несмотря на
упомянутые имена, я уже привыкла к тому, что Jazz Koktebel – не столько о
музыке, сколько об общей атмосфере и музыкантской тусовке. И я со всей
ответственностью могу сказать, что таких открытий, таких катарсисов и таких
по-настоящему приятных музыкальных сюрпризов, как в 2010-м году на Волошинской
сцене, на этом фестивале ещё не было.
 Начнём хотя бы с того, что до Коктебеля наконец доехали молодые гении (иначе не
назвать) Вадим Неселовский и Андрей Прозоров. Об этих музыкантах,
честно говоря, у меня (и у множества джазовых журналистов)
уже язык болит рассказывать, но грех не рассказать ещё раз. Вадим
Неселовский, пианист, — по происхождению
одессит, учился академической музыке в Одесской консерватории, затем – в Высшей
музыкальной школе Эссена (Германия). Джазовое образование получил в знаменитом
колледже Беркли (Бостон, США), где настолько впечатлил вице-президента колледжа,
Гэри Бёртона (Gary Burton), что тот пригласил Вадима в свой ансамбль
Generations. Вадим — постоянный участник
этого коллектива и аранжировщик многих произведений, которые исполняет Бёртон.
Кроме прочего, Неселовский успешно окончил Thelonious Monk Institute, в
котором единовременно учатся избранные из избранных, - всего полдюжины человек,
отбором которых занимаются лично Теренс Бланшард (Terence Blanchard),
Херби Хэнкок (Herbie Hancock) и сын Телониуса Монка, да и преподают
— «небожители». В 2009 году Вадим получил
приглашение стать штатным преподавателем колледжа Беркли, тем самым став первым
в истории выходцем из Украины, получившим такую привилегию. В настоящий момент
Неселовский занимается в аспирантуре с перспективой получения степени "доктора
джазовых наук" (это не шутка, если что).
Начнём хотя бы с того, что до Коктебеля наконец доехали молодые гении (иначе не
назвать) Вадим Неселовский и Андрей Прозоров. Об этих музыкантах,
честно говоря, у меня (и у множества джазовых журналистов)
уже язык болит рассказывать, но грех не рассказать ещё раз. Вадим
Неселовский, пианист, — по происхождению
одессит, учился академической музыке в Одесской консерватории, затем – в Высшей
музыкальной школе Эссена (Германия). Джазовое образование получил в знаменитом
колледже Беркли (Бостон, США), где настолько впечатлил вице-президента колледжа,
Гэри Бёртона (Gary Burton), что тот пригласил Вадима в свой ансамбль
Generations. Вадим — постоянный участник
этого коллектива и аранжировщик многих произведений, которые исполняет Бёртон.
Кроме прочего, Неселовский успешно окончил Thelonious Monk Institute, в
котором единовременно учатся избранные из избранных, - всего полдюжины человек,
отбором которых занимаются лично Теренс Бланшард (Terence Blanchard),
Херби Хэнкок (Herbie Hancock) и сын Телониуса Монка, да и преподают
— «небожители». В 2009 году Вадим получил
приглашение стать штатным преподавателем колледжа Беркли, тем самым став первым
в истории выходцем из Украины, получившим такую привилегию. В настоящий момент
Неселовский занимается в аспирантуре с перспективой получения степени "доктора
джазовых наук" (это не шутка, если что).
 У Андрея Прозорова, тоже выходца из Одессы, но саксофониста,
— тоже всё хорошо. Достаточно сказать, что
этого молодого человека некогда пригласил в свой ансамбль Джо Завинул (Joe
Zawinul) где Андрей успешно работал вплоть до смерти мастера,
— и уже можно не продолжать. А можно, с другой стороны, и продолжить: Андрей, уже имея блестящее музыкальное образование, полученное сначала в Одесской, а затем в Венской консерватории, в
настоящий момент получает дополнительные знания на факультете философии Венского
Университета, параллельно выступая с группой Fatima Spar and The Freedom
Fries и перкуссионистом Аллегре Кориа. Пару лет тому назад
Неселовского и Прозорова звали выступить на Jazz Koktebel, но в тот момент Вадим
уже был приглашён гастролировать в группе (на минуточку) контрабасиста Рона
Картера (Ron Carter), и приезд на фестиваль не состоялся. На сей раз звёзды
встали как надо: Вадим приехал в Украину буквально на 1 день и после концерта
поспешил обратно в Штаты, а Андрей остался до конца фестиваля и выступил в
составе, в общей сложности, аж трёх составов. Впрочем, этого музыканта никогда
не бывает много: слушал бы и слушал бесконечно...
У Андрея Прозорова, тоже выходца из Одессы, но саксофониста,
— тоже всё хорошо. Достаточно сказать, что
этого молодого человека некогда пригласил в свой ансамбль Джо Завинул (Joe
Zawinul) где Андрей успешно работал вплоть до смерти мастера,
— и уже можно не продолжать. А можно, с другой стороны, и продолжить: Андрей, уже имея блестящее музыкальное образование, полученное сначала в Одесской, а затем в Венской консерватории, в
настоящий момент получает дополнительные знания на факультете философии Венского
Университета, параллельно выступая с группой Fatima Spar and The Freedom
Fries и перкуссионистом Аллегре Кориа. Пару лет тому назад
Неселовского и Прозорова звали выступить на Jazz Koktebel, но в тот момент Вадим
уже был приглашён гастролировать в группе (на минуточку) контрабасиста Рона
Картера (Ron Carter), и приезд на фестиваль не состоялся. На сей раз звёзды
встали как надо: Вадим приехал в Украину буквально на 1 день и после концерта
поспешил обратно в Штаты, а Андрей остался до конца фестиваля и выступил в
составе, в общей сложности, аж трёх составов. Впрочем, этого музыканта никогда
не бывает много: слушал бы и слушал бесконечно...
 Их музыку можно долго анализировать. Можно говорить о том, какие дивные плоды
дала блестящая академическая школа, великолепное импровизационное мышление и
природный талант. Можно долго разбирать по косточкам, откуда растут ноги у этого
пассажа, той гармонической последовательности или конкретно этого подхода к
аранжировке. Можно сравнивать их трактовку
«Группы крови» Цоя с
тем, как выворачивают наизнанку хиты The Bad Plus и Ярон Херман (Yaron
Herman). А можно просто отдаться музыке. Вот фортепиано
имитирует колокольный звон, а сопрано-саксофон – гармонь.
В невероятно простой пронзительной, тревожной, печальной и глубокой попевке
— невыразимая экзистенциальная тоска, и
величие, и трагедия, и триумф. Звучит Шостакович, звучит Бах,
звучат авторские пьесы; боговдохновенное pianissimo сменяется экстатическими
всплесками; сквозь долгие паузы прорывается вполне настоящий и осязаемый шум
ветра и разбивающихся волн, тут же становящийся музыкой; пианист и саксофонист
(не Дима и Андрей, а просто — музыкант и музыкант,
какими они были два, четыре, шесть веков тому, скоморохи, менестрели, трубадуры
— вот они, перед тобой), проживают каждую ноту, кладут жизнь здесь же, на
сцене, умирают и воскресают, а ты — ты понимаешь, что эти люди знают правду, что им открыто нечто большое и настоящее,
ты захлебываешься восторгом: нет сил ни дышать, ни шевелиться; выдох, стон, а!
Как же это невыносимо прекрасно...
Их музыку можно долго анализировать. Можно говорить о том, какие дивные плоды
дала блестящая академическая школа, великолепное импровизационное мышление и
природный талант. Можно долго разбирать по косточкам, откуда растут ноги у этого
пассажа, той гармонической последовательности или конкретно этого подхода к
аранжировке. Можно сравнивать их трактовку
«Группы крови» Цоя с
тем, как выворачивают наизнанку хиты The Bad Plus и Ярон Херман (Yaron
Herman). А можно просто отдаться музыке. Вот фортепиано
имитирует колокольный звон, а сопрано-саксофон – гармонь.
В невероятно простой пронзительной, тревожной, печальной и глубокой попевке
— невыразимая экзистенциальная тоска, и
величие, и трагедия, и триумф. Звучит Шостакович, звучит Бах,
звучат авторские пьесы; боговдохновенное pianissimo сменяется экстатическими
всплесками; сквозь долгие паузы прорывается вполне настоящий и осязаемый шум
ветра и разбивающихся волн, тут же становящийся музыкой; пианист и саксофонист
(не Дима и Андрей, а просто — музыкант и музыкант,
какими они были два, четыре, шесть веков тому, скоморохи, менестрели, трубадуры
— вот они, перед тобой), проживают каждую ноту, кладут жизнь здесь же, на
сцене, умирают и воскресают, а ты — ты понимаешь, что эти люди знают правду, что им открыто нечто большое и настоящее,
ты захлебываешься восторгом: нет сил ни дышать, ни шевелиться; выдох, стон, а!
Как же это невыносимо прекрасно...
Я уже не помню, как закончился этот концерт. Вообще после такой музыки нужно быстро-быстро идти домой и больше ничего не слушать. Или, по крайней мере, дать себе передышку. Примерно так мы с парнями и поступили: послушав в общеобразовательных целях исполняющую задорный и качественный gypsy swing группу Ялта Jam, ретировались — утепляться, осмысливать услышанное и готовиться к изрядной порции новой музыки.
 Когда мы вернулись, своё сольное
выступление заканчивала Кира Шулаева из Санкт-Петербурга, исполняющая
авторские вокализы, аккомпанируя себе на скрипке; как с использованием плейбэка, так и без него. К слову,
играющей Киру мы неоднократно видели после выступления на Волошинской сцене в
самых разных местах — от
«аллеи
хиппи» на
набережной (где рядом с крепкими профессионалами сидят расторможенные аскеры с
инструментами и без) до бара «Калипсо» неподалеку от сцены Nu
Jazz, где в рамках фестиваля проходили джемы всех желающих музыкантов и
не-музыкантов.
Когда мы вернулись, своё сольное
выступление заканчивала Кира Шулаева из Санкт-Петербурга, исполняющая
авторские вокализы, аккомпанируя себе на скрипке; как с использованием плейбэка, так и без него. К слову,
играющей Киру мы неоднократно видели после выступления на Волошинской сцене в
самых разных местах — от
«аллеи
хиппи» на
набережной (где рядом с крепкими профессионалами сидят расторможенные аскеры с
инструментами и без) до бара «Калипсо» неподалеку от сцены Nu
Jazz, где в рамках фестиваля проходили джемы всех желающих музыкантов и
не-музыкантов.
 Вечерний концерт открыло
выступление датского
саксофониста Эскила Ромме (Eskil Romme) и,
несмотря на уверения фестивальных программок, не скрипача Петера Урбранда< (Peter
Uhrbrand), а шведского исполнителя на бузуки (разновидность
лютни) Йенса Ульвсанда (Jens Ulvsand).
Пожилые скандинавы играют очень простую музыку, без гармонических и импровизационных
изысков, и прелесть того, что выходит из-под их пальцев
— в чувстве, искренности и... особых сочетаниях интервалов, присущих северной
культуре. Местами, правда, искренность и чувство не были способны перекрыть
некоторую мало скрываемую неуверенность (кто его знает, какой природы): пассажи
не всегда удавались, а финал почти каждой композиции наступал так внезапно,
будто музыканты спешили поскорей её закончить. Но... в целом впечатление от
дуэта осталось очень милое. Добрые и открытые северные дядьки.
Вечерний концерт открыло
выступление датского
саксофониста Эскила Ромме (Eskil Romme) и,
несмотря на уверения фестивальных программок, не скрипача Петера Урбранда< (Peter
Uhrbrand), а шведского исполнителя на бузуки (разновидность
лютни) Йенса Ульвсанда (Jens Ulvsand).
Пожилые скандинавы играют очень простую музыку, без гармонических и импровизационных
изысков, и прелесть того, что выходит из-под их пальцев
— в чувстве, искренности и... особых сочетаниях интервалов, присущих северной
культуре. Местами, правда, искренность и чувство не были способны перекрыть
некоторую мало скрываемую неуверенность (кто его знает, какой природы): пассажи
не всегда удавались, а финал почти каждой композиции наступал так внезапно,
будто музыканты спешили поскорей её закончить. Но... в целом впечатление от
дуэта осталось очень милое. Добрые и открытые северные дядьки.
 А вот трио Карстена Дэррра (Carsten Daerr Trio) из Германии, вышедшее
на сцену вслед за датско-шведским дуэтом, стало, пожалуй, главным открытием
фестиваля. Молодые на вид парни (даром, что играют вместе уже 16 лет) долго не
могли собраться: лидер трио, пианист Карстен якобы ушёл погулять и вернулся,
когда организаторы его уже обыскались. Ожидание было вознаграждено, и ещё как.
Немцы играют с неподдельной радостью, с ненатужным, совершенно органичным
драйвом. Пианист резв, изобретателен и умён, контрабасист Оливер Потратц (Oliver
Potratz) раскрепощен и напорист, а барабанщик... барабанщик Эрик Шефер (Eric
Schaefer)— это, пожалуй, вообще лучшее, что
есть в этом трио.
А вот трио Карстена Дэррра (Carsten Daerr Trio) из Германии, вышедшее
на сцену вслед за датско-шведским дуэтом, стало, пожалуй, главным открытием
фестиваля. Молодые на вид парни (даром, что играют вместе уже 16 лет) долго не
могли собраться: лидер трио, пианист Карстен якобы ушёл погулять и вернулся,
когда организаторы его уже обыскались. Ожидание было вознаграждено, и ещё как.
Немцы играют с неподдельной радостью, с ненатужным, совершенно органичным
драйвом. Пианист резв, изобретателен и умён, контрабасист Оливер Потратц (Oliver
Potratz) раскрепощен и напорист, а барабанщик... барабанщик Эрик Шефер (Eric
Schaefer)— это, пожалуй, вообще лучшее, что
есть в этом трио.
 Такой тонкой, изобретательной игры, такого вдохновенного
взаимодействия, такого эмоционального напряжения при предельной
сосредоточенности я не видела уже давно. Барабаны Шефера есть везде, он
молниеносно выбирает именно то средство и тот нюанс, и тот удар по той самой
тарелке, по тому самому барабану или колокольчику, которые нужны в конкретном
месте для выражения конкретной мысли, он поддерживает каждую внезапно поданную
идею и развивает её до той степени, до которой это необходимо, и в то же время
Шефера будто бы нет, он
«благорастворён в воздусях», он парит
над потоком. Кульминацией концерта (по крайней мере, для меня и многих
присутствовавших на выступлении музыкантов) стала композиция «Intuition», в
основу которой положена импровизация 6-тилетнего мальчика. Трио создает грув на
2-3-х нотах, на неочевидных, не таких уж эуфоничных аккордах, долго
раскачивается, нагнетает температуру, добавляя градуса очень умеренными
порциями, и наконец выходит в такую фантастическую пульсацию, в такой резонанс,
что «хочется кричать» (а Шефер, этот инопланетный Шефер, сохраняет самообладание
даже в самые горячие моменты, когда Дэрр и Потратц уходят в транс, не говоря о
стонущей аудитории). Пусть то, что играют эти ещё довольно молодые немцы, и
не ново, пусть оно отзывается тем, что вышло из-под пера The Bad Plus,
Esbjorn Svensson Trio, Plaistow и прочих современных музыкантов, от
Radiohead до The Books, —
хорошей музыки много не бывает.
Такой тонкой, изобретательной игры, такого вдохновенного
взаимодействия, такого эмоционального напряжения при предельной
сосредоточенности я не видела уже давно. Барабаны Шефера есть везде, он
молниеносно выбирает именно то средство и тот нюанс, и тот удар по той самой
тарелке, по тому самому барабану или колокольчику, которые нужны в конкретном
месте для выражения конкретной мысли, он поддерживает каждую внезапно поданную
идею и развивает её до той степени, до которой это необходимо, и в то же время
Шефера будто бы нет, он
«благорастворён в воздусях», он парит
над потоком. Кульминацией концерта (по крайней мере, для меня и многих
присутствовавших на выступлении музыкантов) стала композиция «Intuition», в
основу которой положена импровизация 6-тилетнего мальчика. Трио создает грув на
2-3-х нотах, на неочевидных, не таких уж эуфоничных аккордах, долго
раскачивается, нагнетает температуру, добавляя градуса очень умеренными
порциями, и наконец выходит в такую фантастическую пульсацию, в такой резонанс,
что «хочется кричать» (а Шефер, этот инопланетный Шефер, сохраняет самообладание
даже в самые горячие моменты, когда Дэрр и Потратц уходят в транс, не говоря о
стонущей аудитории). Пусть то, что играют эти ещё довольно молодые немцы, и
не ново, пусть оно отзывается тем, что вышло из-под пера The Bad Plus,
Esbjorn Svensson Trio, Plaistow и прочих современных музыкантов, от
Radiohead до The Books, —
хорошей музыки много не бывает.
О том, как мы с Free-Spoken Band накамлали солнечную погоду, как гламурный El Кравчук пел Вертинского, а австрийский гитарист Карл Риттер заставил зрителей сдавать билеты — продолжение следует.
ФЕСТИВАЛЬ - свежие публикации:
-
 Анализ - Хедлайнеры-2025: Оливия, Сабрина, Charli XCX и Nine Inch Nails, 26.03.2025От поп-див до бойфренда Граймс: кого и за что берут в хедлайнеры главных фестивалей этого лета »»
Анализ - Хедлайнеры-2025: Оливия, Сабрина, Charli XCX и Nine Inch Nails, 26.03.2025От поп-див до бойфренда Граймс: кого и за что берут в хедлайнеры главных фестивалей этого лета »» -
 Фестиваль - C дальним прицелом, 14.01.2025Британские фестивали готовятся затянуть пояса: зрителей ожидает меньшее количества хедлайнеров и увеличение стоимости билетов »»
Фестиваль - C дальним прицелом, 14.01.2025Британские фестивали готовятся затянуть пояса: зрителей ожидает меньшее количества хедлайнеров и увеличение стоимости билетов »» -
 Фестиваль - Центр циклона, 22.11.2024Леди Гага, Green Day, Post Malone, Трэвис Скотт и сотни других артистов выступят на Coachella-2025 »»
Фестиваль - Центр циклона, 22.11.2024Леди Гага, Green Day, Post Malone, Трэвис Скотт и сотни других артистов выступят на Coachella-2025 »»
Свежие альбомы
Хроника29 марта
Родились
Eric IDLE (1943)
VANGELIS (1943)
Johnny DOWD (1948)
Michael BRECKER (1949)
Ирина КРУГ (1976)