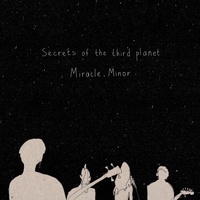Русская классическая культура в течение всего XIX века питалась со французского стола, русская бюрократия строилась и муштровалась из-под немецкой палки. Но в ХХ веке появилось нечто, впервые со времен Аристотеля Фьораванти, возведшего Успенский собор в Кремле, объединившее Россию с Италией. И это нечто - художественный авангард. Точнее - движение футуризма, буйно (в данном случае это слово как нельзя более подходит) и своеобразно расцветшее в наших странах в начале прошлого, ХХ века.
Об этом мне пришлось живо вспомнить 18 июня в Пушкинском музее, на организованном итальянским культурным центром концерте футуристической музыки. Футуристическим он был не в том смысле, что роботы лабали на синтезаторах, а в том, что исполнялись фортепианные произведения 1914-1931 годов русских и итальянских композиторов, считавшихся и считавшими себя футуристами. Из русских это были хорошо мне известный по "Полутороглазому стрельцу" завсегдатай "Бродячей собаки" Артур Лурье и слышимый когда-то краем уха Александр Мосолов. Из итальянцев - семь авторов, из которых я слышал только об одном - Альберто Савиньо (Alberto Savinio), и то лишь потому, что он родной брат художника Ди Кирико.
Музыка действительно была очень необычная - ничего общего ни с томными
аморфными переливами импрессионистов a la Дебюсси, ни с пунктирными опусами
додекафонистов вроде Веберна. И очень разная. Русские композиторы своими
рассудочными, сухими и агрессивными пьесами напомнили... Чехова. Это может
показаться немного странно - где деликатнейший Чехов с бородкой и пенсне, а где
эти вахлаки-футуристы в желтых кофтах и с их публичными скандалами! - но
позвольте процитировать вам известный пассаж из "Ионыча" (1898):
"Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом
тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее
содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не
перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом;
гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный
пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев,
слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё
сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться".
Это описание трактуют обычно в том смысле, что 18-летняя Екатерина Ивановна
играла очень плохо, бесчувственно; но, может быть, она, сама того не зная,
просто была футуристкой - то есть чувствовала музыку по-новому, как ее
чувствовали в ХХ веке? Недаром же про Чехова говорят, что он на самом деле был
крайним модернистом, упорно маскирующимся под традиционалиста!
Или же наоборот? Страшно подумать - а вдруг эти легендарные петербургские
футуристы от музыки были на самом деле просто провинциальными вьюношами,
которым, как бедной Катеньке, негде (и не на что) было услышать в отрочестве
больших музыкантов...
Мосолов был репрессирован в 1937, был выпущен через год по ходатайству
Мясковского - но с запрещением жить в крупных городах. После чего до самой
смерти (1973), писал совершенно "правильную" музыку. Грустно, но
объяснимо. Но Артур Лурье умер в 1966 году в Нью-Йорке, его, казалось бы, ничто
не сдерживало, его имя, в отличие от имен Рахманинова или Стравинского, не
говорит никому и ничего. Только историкам. И то скорее литературы, а не
музыки:
Итальянцы оставили совсем другое впечатление. Они-то уж точно слышали все, что
тогда можно было услышать в Европе. Даже новейшую тогда штуковину - регтайм. И
негритянскую не пойми что - джаз. Их отзвуки явно были слышны в пьесе 1913
года Франческо Бариллы Прателлы ( Francesco Balilla Pratella). А у всех
остальных, даже в самых механистических пьесах, был еще более явственно слышен
другой отзвук - отзвук карнавала, веселья, дружеской тусовки под щедрым солнцем
и с добродушными полицейскими, готовыми смотреть сквозь пальцы на эти
карнавальные безобразия. Не чета нашим угрюмым интеллектуальцам и бдительным
городовым, чуть что готовыми "не пущать".
Впрочем, эту разницу между русскими и итальянским футуризмом понимали еще его
участники:
"По его (Маринетти) словам, ему и его товарищам было очень трудно найти
помещение для организованной ими "дирекции". Домовладельцы один за
другим расторгали с ними контракты, так как кошачьи концерты, устраиваемые
зачинателям футуризма студенческой молодежью, не давали спать остальным
жильцам: - Я был принужден купить дом: иного выхода не было, -- заключил свое
повествование Маринетти". "Многие ли из наших маститых
писателей, - подумал я, - имеют возможность с такою легкостью устранять
препятствия на своем пути? И какая непосредственность нравов сохранилась у них,
в их индустриальном Милане: студенты, кошачьи концерты! Кому в России взбрело
бы в голову бороться такими способами с футуризмом!"
Мне эти итальянские футуристы свой легкостью и самоиронией - при явном наличии глубины! - напомнили Сергея Курехина. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря великолепной фортепианной технике седогривого маэстро Даниеле Ломбардии, главного в мире специалиста по футуристической музыке. Интересно, слышал ли когда-нибудь Курехин Альфредо Казеллу, Сильвио Микса, Франческо Казаволу, Альдо Джунтини? С него станется. А не слышал - так и не надо. У футуризма любой эпохи есть что-то общее. И роботы здесь ни при чем.
P.S. Да, о вообще-то концерт был по случаю открытия в ГМИИ большой выставки итальянской футуристической живописи и фотографии. Обязательно на нее схожу отдельно.
P.S. Но на следующий день на "расширенный" концерт Ломбарди со струнным квартетом в Дом музыки я всё-таки не пошел. Два футуристических дня подряд - это был бы перебор.
АКЦИЯ - свежие публикации:
-
 События - В чем сила, Брат?, 28.02.2023Группы Би-2 и Сплин исчезли из числа участников фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack" »»
События - В чем сила, Брат?, 28.02.2023Группы Би-2 и Сплин исчезли из числа участников фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack" »» -
 События - После России, 13.01.2023Noize MC, Монеточка и другие уехавшие из России музыканты выпустили альбом «После России» »»
События - После России, 13.01.2023Noize MC, Монеточка и другие уехавшие из России музыканты выпустили альбом «После России» »» -
 События - Музыканты за мир, 30.03.2022Большой благотворительный концерт по сбору средств для помощи Украине с участием Эда Ширана и Камиллы Кабелло собрал 16 миллионов долларов »»
События - Музыканты за мир, 30.03.2022Большой благотворительный концерт по сбору средств для помощи Украине с участием Эда Ширана и Камиллы Кабелло собрал 16 миллионов долларов »»
Свежие альбомы
Хроника1 февраля
Родились
Don EVERLY (1937)
Joe SAMPLE (1939)
Лев ЛЕЩЕНКО (1942)
Fran CHRISTINA (1951)
Sonny LANDRETH (1951)
Константин НИКОЛЬСКИЙ (1951)
Rick JAMES (1952)
Exene CERVENKA (1956)