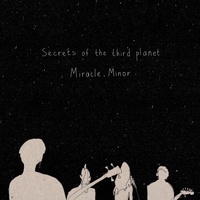Между огромными рекламными щитами с портретами выступающих в БКЗ юмористов от музыки с трудом можно было разглядеть редкие афиши Dead Can Dance. Черные листы с неброским названием группы в центре и датой/местом в уголке. В общем-то, ход мысли организаторов понятен: показывать "понятную картинку" народным массам - бесполезно, кто такие эти люди - не объяснишь на пальцах, а те, кто вовремя услышал их фантастические записи - придут несмотря ни на что. Да что там придут - из другого города приедут. И приехали. Не до конца понимая, как могло случиться такое - мертвые возвращаются из небытия, чтобы станцевать для нас.
 Брендан Перри (Brendan Perry) и Лайза
Джеррард (Lisa Gerrard) -
какие гости в этой стране могли быть желаннее? С момента, когда в 1998 году
Dead Can Dance объявили о своем распаде, многие поклонники великой
группы пали духом, справедливо полагая, что им больше не доведется увидеть
"живьем" выступление людей, оказавших огромное влияние на музыку двадцатого
столетия. В самом деле, что может быть на европейской музыкальной сцене
необычнее, значительнее и изменчивее, нежели DCD?
Брендан Перри (Brendan Perry) и Лайза
Джеррард (Lisa Gerrard) -
какие гости в этой стране могли быть желаннее? С момента, когда в 1998 году
Dead Can Dance объявили о своем распаде, многие поклонники великой
группы пали духом, справедливо полагая, что им больше не доведется увидеть
"живьем" выступление людей, оказавших огромное влияние на музыку двадцатого
столетия. В самом деле, что может быть на европейской музыкальной сцене
необычнее, значительнее и изменчивее, нежели DCD?  Их психоделические штандарты
развевались над павшими крепостями
общественного сознания, стирая границы времен и стран. В их музыке комфортно
уживаются языческие песнопения, католические хоралы из глубины Средних веков,
загадочный и
жестокий Восток и танцы Северной Африки. Они воплощают собой одновременно и
гармонию, и дисгармонию: взрыв, слом шаблона силами красивейшей музыки. (Многие,
вспомнив о панковском прошлом Перри в группе Scavengers, понимающе
улыбнутся, однако свое черное дело - локальные революции в сознании - Брендан
продолжает творить и по сей день, просто иными средствами.) Их последний альбом
"Wake" (2003),
как и
многие другие работы группы, возмущает,
восхищает и мгновенно порабощает.
Их психоделические штандарты
развевались над павшими крепостями
общественного сознания, стирая границы времен и стран. В их музыке комфортно
уживаются языческие песнопения, католические хоралы из глубины Средних веков,
загадочный и
жестокий Восток и танцы Северной Африки. Они воплощают собой одновременно и
гармонию, и дисгармонию: взрыв, слом шаблона силами красивейшей музыки. (Многие,
вспомнив о панковском прошлом Перри в группе Scavengers, понимающе
улыбнутся, однако свое черное дело - локальные революции в сознании - Брендан
продолжает творить и по сей день, просто иными средствами.) Их последний альбом
"Wake" (2003),
как и
многие другие работы группы, возмущает,
восхищает и мгновенно порабощает.
Вместе с тем, за время расставания Лайза и Брендан издали внушительное количество сольных вещей, и именно с одной из них - лайзиной композиции "Nierika", открывающей альбом DCD "Spiritchaser" - начался питерский концерт.
 Сцена, как и афиша, была оформлена
лаконично, даже скупо: в
этом шоу основные партии играют
свет и
звук, поэтому слушатели не отвлекаются на декорации или видеопроекции. До
отказа набитый "Октябрьский" с интересом наблюдал за тем, как неторопливый
техник расставляет гитары, подтягивает колки, переставляет поудобнее тамбурины,
вытаскивает из-за кулис увесистый харди-гарди. Получасовая задержка после
нескольких лет безнадежного ожидания? Ерунда, бывало хуже. И вот гаснет свет и
на сцену выходят музыканты. Солиднейшая перкуссия обживается тремя мужчинами
разной комплекции, люди в белом занимают места за огромными клавишами. Лысый
крепыш перед микрофоном оказывается Бренданом Перри.
В центре стоит задрапированный желтой шторой пюпитр для 58-струнного китайского
инструмента "янг-чин", на котором играет
Лайза. Она неторопливо вплывает на сцену в желтом одеянии, напоминающем
одновременно облачение епископа и балахон зазывалы. И издает первый
звук - такой чистый и тоскливый, такой невесомо-красивый, что в груди сразу
становится тесно.
Сцена, как и афиша, была оформлена
лаконично, даже скупо: в
этом шоу основные партии играют
свет и
звук, поэтому слушатели не отвлекаются на декорации или видеопроекции. До
отказа набитый "Октябрьский" с интересом наблюдал за тем, как неторопливый
техник расставляет гитары, подтягивает колки, переставляет поудобнее тамбурины,
вытаскивает из-за кулис увесистый харди-гарди. Получасовая задержка после
нескольких лет безнадежного ожидания? Ерунда, бывало хуже. И вот гаснет свет и
на сцену выходят музыканты. Солиднейшая перкуссия обживается тремя мужчинами
разной комплекции, люди в белом занимают места за огромными клавишами. Лысый
крепыш перед микрофоном оказывается Бренданом Перри.
В центре стоит задрапированный желтой шторой пюпитр для 58-струнного китайского
инструмента "янг-чин", на котором играет
Лайза. Она неторопливо вплывает на сцену в желтом одеянии, напоминающем
одновременно облачение епископа и балахон зазывалы. И издает первый
звук - такой чистый и тоскливый, такой невесомо-красивый, что в груди сразу
становится тесно.
 Это было захватывающе и нереально - словно целому залу грезилось нечто давно
забытое и прекрасное, вроде средневековой легенды о принцессах и драконах. Одна
за другой следовали композиции со старых и новых
альбомов; при этом
внушительную часть вечера составляли вещи, звучавшие на известной концертной
пластинке "Toward The Within". Словно в каком-то невероятном, волшебном сне так
близко и живо исполнялись "Rakim", "Minus Sanctus", "Lotus Eaters", Love That
Cannot Be, Black Sun, Перри брал то бубен, то гитару, в какой-то момент у
него в руках оказалась знаменитая колесная лира, и зазвучала знаменитая
"Saltarello"... Лайза, виртуозно меняя тембр голоса, легко
"прогуливается" по стилям - от традиционной английской баллады "The Wind
That Shakes The Barley" до резких ориентальных композиций. А мягкий вокал
Брендана тоже может быть очень разным - он это с блеском продемонстрировал в
таких разных по настроению вещах, как "I Can See Now" и "American
Dreaming". Он умеет очень жестко сказать "I don't believe you
anymore" и тут же, без всякого перехода, спеть совершенно осязаемое,
ликующее счастье...
Это было захватывающе и нереально - словно целому залу грезилось нечто давно
забытое и прекрасное, вроде средневековой легенды о принцессах и драконах. Одна
за другой следовали композиции со старых и новых
альбомов; при этом
внушительную часть вечера составляли вещи, звучавшие на известной концертной
пластинке "Toward The Within". Словно в каком-то невероятном, волшебном сне так
близко и живо исполнялись "Rakim", "Minus Sanctus", "Lotus Eaters", Love That
Cannot Be, Black Sun, Перри брал то бубен, то гитару, в какой-то момент у
него в руках оказалась знаменитая колесная лира, и зазвучала знаменитая
"Saltarello"... Лайза, виртуозно меняя тембр голоса, легко
"прогуливается" по стилям - от традиционной английской баллады "The Wind
That Shakes The Barley" до резких ориентальных композиций. А мягкий вокал
Брендана тоже может быть очень разным - он это с блеском продемонстрировал в
таких разных по настроению вещах, как "I Can See Now" и "American
Dreaming". Он умеет очень жестко сказать "I don't believe you
anymore" и тут же, без всякого перехода, спеть совершенно осязаемое,
ликующее счастье...
 Аккомпанирующий состав (прекрасные,
разнообразные перкуссии, бас и два синтезатора) великолепен. Во время
исполнения Перри грустной баллады "How Fortunate The Man with None"
перкуссионисты ушли со сцены, и только тут стала понятна разница в
"исполнительской политике" двух лидеров: аккомпанемент для Перри строится так,
чтобы создавать у слушателя постоянное ощущение некой инверсии ("измены", как
выразился один из моих спутников), а Лайза, стремясь достичь этого эффекта,
практически отказывается
от аккомпанемента и исполняет вещь а капелла или в сопровождении клавиш - да
так, что закрыв глаза,
невозможно понять, сколько певиц одновременно исполняет композцию. Однако Dead
Can Dance не были бы теми, кто они есть, если бы набирали в группу только
"поддержку": в тот момент, когда
Лайза отходит от микрофона, инструментальная мощь состава становится особенно
очевидна - музыкантам подвластны и эмбиент, и этника, и нойз, и приемы из арсенала
world-music. DCD - уникальная группа, и красота ее музыкальной философии раскрывается
именно исполнительскими средствами.
Аккомпанирующий состав (прекрасные,
разнообразные перкуссии, бас и два синтезатора) великолепен. Во время
исполнения Перри грустной баллады "How Fortunate The Man with None"
перкуссионисты ушли со сцены, и только тут стала понятна разница в
"исполнительской политике" двух лидеров: аккомпанемент для Перри строится так,
чтобы создавать у слушателя постоянное ощущение некой инверсии ("измены", как
выразился один из моих спутников), а Лайза, стремясь достичь этого эффекта,
практически отказывается
от аккомпанемента и исполняет вещь а капелла или в сопровождении клавиш - да
так, что закрыв глаза,
невозможно понять, сколько певиц одновременно исполняет композцию. Однако Dead
Can Dance не были бы теми, кто они есть, если бы набирали в группу только
"поддержку": в тот момент, когда
Лайза отходит от микрофона, инструментальная мощь состава становится особенно
очевидна - музыкантам подвластны и эмбиент, и этника, и нойз, и приемы из арсенала
world-music. DCD - уникальная группа, и красота ее музыкальной философии раскрывается
именно исполнительскими средствами.
 На бис Dead Can Dance выходили дважды:
сначала - всем составом, чтобы сыграть
несколько вещей разных "эпох", а во второй раз, когда публика не желала
успокаиваться и расходиться, Лайза вдруг вышла и спела красивую, но совершенно
выбивающуюся из контекста вечера колыбельную в стиле соул, которую никто из нас
раньше не слышал - со смешными "мультяшными" интонациями классического
кинематографа начала века. И это было так неожиданно и так здорово, что больше,
кажется, никаких слов и не требовалось.
На бис Dead Can Dance выходили дважды:
сначала - всем составом, чтобы сыграть
несколько вещей разных "эпох", а во второй раз, когда публика не желала
успокаиваться и расходиться, Лайза вдруг вышла и спела красивую, но совершенно
выбивающуюся из контекста вечера колыбельную в стиле соул, которую никто из нас
раньше не слышал - со смешными "мультяшными" интонациями классического
кинематографа начала века. И это было так неожиданно и так здорово, что больше,
кажется, никаких слов и не требовалось.
Мертвые вновь вернулись из небытия, чтобы станцевать для нас и удивить нас.
DEAD CAN DANCE - свежие публикации:
-
 События - Выпьем с горя, где же кружка?, 02.09.2018Новый альбом Dead Can Dance посвящен культу Диониса »»
События - Выпьем с горя, где же кружка?, 02.09.2018Новый альбом Dead Can Dance посвящен культу Диониса »» -
 События - Элевсинская мистерия, 10.11.2016Dead Can Dance выпустили новую композицию, посвящённую греческому городу Элефсис »»
События - Элевсинская мистерия, 10.11.2016Dead Can Dance выпустили новую композицию, посвящённую греческому городу Элефсис »» -

DEAD CAN DANCE

Свежие альбомы
Хроника13 апреля
1995 – Валерий Сюткин заявил, что покидает группу «Браво» и начинает сольную карьеру »»
Родились
Lowell GEORGE (1945)
Al GREEN (1946)
Михаил ШУФУТИНСКИЙ (1948)
Peabo BRYSON (1951)
Александр КУТИКОВ (1952)
Jimmy DESTRI (1954)
Louis JOHNSON (1955)
Сергей ШНУРОВ (1973)
Lou BEGA (1975)